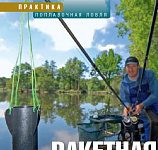фото: Игнатова Валентина
Нет, приехал обычный наряд, трое добрых молодцев, одного, кстати, Валя с детства знает, — ну и протокол, как полагается.
Но в деревне у нас только так и говорят: «У Вальки милиция ружье отобрала».
Валя к ним по серьезному: «Мол братцы! Мол, Серега! Ружье-то не берите, а меня хоть на неделю загребайте».
А те ему: «Нельзя, Валя, работа такая. Вон теща твоя вопит непутягом».
Валя ко мне, присутствующем при сем случайно: «Скажи ты им, Митрич! Никак мне без ружья-то!»
И тут же теще: «Да не орите же вы!»
И я вступился за Валю, хоть и трезв был. Но, разумеется, тщетно.
Теща, Алевтина Петровна, правда, вопила как ненормальная. Вообще-то с ней, с тещей, у Вали особенной грызни не было никогда. Петровна — женщина суровая, дородная, рука у нее тяжелая.
Валя однажды, в минуту пьяного откровения, проговорился: «Ничего я в этой жизни не боюсь, вот помереть только боюсь». И добавил после паузы: «И тещу!» Я думал, шутит, а он говорил серьезно.
Отобрать ружье у охотника — это все равно что музыканту пальцы отрубить. Ну, хорошо, сейчас межсезонье, а явится весна — утка, вальдшнеп, как же тогда? А главное, из-за чего отобрали-то? Да из-за ерунды!
Валя его даже из чехла-то не доставая, так, подмышкой поносил маленько. Для порядка. Ну, во хмелю он был, понимать надо. А Алевтина Петровна заверещала, да к соседям ломанулась звонить. Вале верезг тещин, конечно, как маслицем по душе, но ружье, елки, жалко до соплей.
Охота для Вали — это все. Если для всей страны, к примеру, осень — это пора свадеб, путчей и экономических кризисов, то Вале не до глупостей: осень — это новый сезон охоты, это осенняя утка, боровая дичь, а там и заяц с лисой подоспеют.
Послушать Валю, когда он потропит с неделю зайца, так он каждого из них в округе в лицо, то бишь в морду, знает. Не знаю, врет он или нет, но когда у него была одностволка, то успевал он по выскочившему из-под ног длинноухому пять раз выпалить и пятым выстрелом уложить косого. И ведь как рассказывает! И куст у него, как облако дрожащее, и дерево — живое.
Короче говоря, Валя — охотник, как говорится, до мозга костей. Но есть у него одна причуда, всем известная. Ни на кабана, ни на лося Валя ни разу не ходил. А вот не нравится ему! И всех, кто пристает к нему с расспросами, отчего да почему, посылает.
Я долго думал над этой особенностью Вали и не придумал ничего умнее, чем то, что не стреляет Валя дичи, которая крупнее его самого.
И вот когда у Вали случились описанные неприятности, я начал думать: как бы я защищал Валю на суде, случись мне быть у него адвокатом? Наш ведь суд эмоций не принимает, ему логику подавай да факты.
Что толку объяснять, что Валя хороший человек, это и так все знают. И судья, Александр Палыч, тоже знает. Вот тут бы я и вспомнил про лося. Вот она, логика! Алевтина Петровна пудиков на шесть потянет, и что б Валя в нее палить стал — да ни в жизнь! Но это все мечты.
Валя ночь в «стакане» просидел, а утром повели его к судье, и ни адвоката тебе, ни прокурора. Александр Павлович ему:
— Что ж ты хулиганишь?! Посадить тебя суток на пять — на семь.
А Валя:
— Да как же, Сан Палыч, ведь десять часов уже, а скотина не кормлена!
Вот ведь, логика налицо. Жена у Вали в отъезде, к тетке умотала, а у тещи — свое хозяйство. Кто скотину будет кормить?!
Судья сразу понял и согласился. Валю отпустили, а вот ружье не отдали. Скотину, мол, можно и без ружья кормить.
Потом Валя заходил ко мне пару раз, на жизнь жаловался, да совета спрашивал, как ружье вернуть. Но я помочь ничем не мог, и никто бы не смог. В деревне у нас милиция даже взятки не берет, это ж вам не Москва.
Апрель грянул сумасшедшим солнцем, капель звякает медяками щедрыми, холод уходит благостно из тела, из дома, из деревьев, душа тает, мухи млеют на прогретых бревнах домов. Пчелы жужжат, носятся в поисках спасительного золота мать-и-мачехи. Ручьи смеются над зимой, как воробьи над старым котом, спугнувшим их с проталины: бестолочь, мол, ты неуклюжая!
А что такое весенняя охота! Это — музыка, гимн, лучший из всех гимнов! Даже сборы сами — уже праздник. В этот раз мы с моим соседом Николаем готовились на селезня ехать к Дальним прудам. Пруды не зря зовут у нас дальними, пешком туда не дотопаешь.
фото: Семина Михаила
Пришел Валя и стал уговаривать взять его с собой. Колька стал шутить: «Тебя, Валентин, в качестве подсадной брать или вместо спаниеля будешь за трофеями плавать?» Посмеялись мы, а Валя, похоже, обиделся: ушел и «до свидания» не сказал.
Рано, задолго до рассвета, мы выезжаем к прудам, в корзинке дремлют наши подсадные. Темно и тихо. Скрадки подготовлены с вечера. Вода в пруду чернее черного. Рассвет как будто отменили сегодня, и надо сделать усилие, чтобы представить восход солнца.
Подсадная недовольно покряхтывает, когда ее извлекают из корзинки, привязывают кожаным ремешком за лапу к приготовленному колышку. Разозлясь, крякнет пару раз и затихнет в темноте на аспидной воде.
Как только утренний свет едва разбавит густой кисель ночи и даже на несколько минут раньше этого, самые нетерпеливые селезни начнут рыскать в тающем тумане в поисках любви. И тут уж, подсадная, не подведи! Крякай, как положено, зови жениха, зови глупца, ослепленного страстью, на выстрел охотника!
Услышит он, сделает коротко круг над прудом, заломит крыло и плюхнется на воду в отдалении. И вместе с этим «плюх» замрет сердце охотника, остановится почти, глаза заломит от напряжения: где он, далеко ли?
А подсадная рада стараться, зовет, манит и только с выстрелом прижмется к воде, замолчит на несколько минут, сердя охотника.
Время уходит, с солнцем появляются крикливые чайки, сквернословят, кружатся над прудом, пугая подсадную. Стало быть, и охота к концу. Но радость от удачной охоты в то утро у меня была не полной. Думал я о Вале: «Зря, все-таки мы его обидели. Радость, если ею невозможно поделиться, это половина радости».
Вечером собирались за деревню на вальдшнепа. Охота на крехтуна, так иногда называют вальдшнепа, — совсем другая песня. Тут ни подсадная, никто другой не поможет. Будь любезен, сам угадай, где на вечерней зорьке потянутся птахи, полетят к месту своих встреч.
И вот тут уже Вале Пугину равных нет. Словно кто-то сообщает ему накануне, что сегодня надо ждать в низине у реки, а завтра лучше идти за овсяное поле к лесу, да не на прогал, к кривой березе, а к бочагу.
Охота на вальдшнепа скоротечна. Только в момент перехода дня в ночь, когда земля уже захлебнулась тьмой, а небо еще касается макушкой дня и неумолимо насыщается синевой, превращаясь из бледно-голубого и легкого в чернильно-тяжелое, и можно увидеть его, летящего быстрым силуэтом и негромко покрикивающего: «хорк, хорк, хорк». Очень непросто попасть в такую цель.
Я стою один в темноте и смотрю туда, где, может быть, появится вальдшнеп. Тишина. Лишь ветерок шевельнет слегка ветку ивняка, да комар первый и совершенно поэтому безобидный пискнет над ухом, изредка прожужжит майский жук — что-то рано они в этом году.
За бочагом, у кустарника, мне уже неразличимого в темноте, стоит другой охотник. Иногда я замечаю огонек его сигареты. Он, как и я, вглядывается в темнеющее небо, переступает с ноги на ногу и вслушивается в тишину.
«Хорк!» Вальдшнепа еще не видно. Но вот он появляется черным лохматым комочком, скользящей кляксой на синем небе. «Хорк!» Я прикладываю к плечу ружье и веду стволами в след цели. Но — нет! Далеко. Вальдшнеп тянет стороной, прямо на моего напарника. Я опускаю ружье и не вижу, а догадываюсь, как блестят его глаза.
Где-то внизу, в ладони, подернулся серым пеплом огонек забытой цигарки. Вальдшнеп проходит прямо над его головой, метрах в десяти. Охотник провожает его жадным взглядом, его губы едва слышно произносят: «Пф-ф!» Тьма сразу становится еще гуще, еще непрогляднее, и где-то из глубины прощальное: «хорк!»